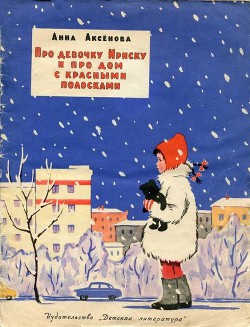Варвар.
После прорыва блокады, когда папа работал на железной дороге, он смог переслать нам наши вещи. Он же помог ленинградской Варваре, дочери Дарьи Ефимовны, приехать навестить свою старую мать и маленького сына.
Поразительное лицо! Я и сейчас будто вижу его: громадные глаза, обведенные черными кругами, изящные манеры, с легкой картавинкой речь. Она рассказывала нам о папе, и в голосе слышалась явная симпатия, что еще больше расположило меня к ней. Она же первая сказала мне, что я похожа на папу. Видно, стала похожа за эти годы. «Руки — просто поразительно одинаковы», — добавила она. И теперь, вспоминая отца, я нет-нет да и взглядываю на свои руки…
В селе жили две племянницы Дементьевой — Татьяна и Мария. Татьяна — врач, Мария преподавала у нас в школе в ленинградском классе английский. С Дарьей Ефимовной они почему-то не общались, и похоже это было на старую семейную неприязнь.
Племянницы жили хорошо. У них на двоих был один мальчик. Звали его Гарик, и был он необыкновенно хорош собой: синеглазый, с белой матовой кожей, таким я по книгам представляла себе маленького английского лорда. Было ему, так же как и рыжему внуку Дарьи Ефимовны, года четыре-пять.
Лет через десять я случайно встретила в Ленинграде Марию, англичанку. «Как Гарик? — спросила я. — Наверное, красавец!» — «Что ты, — вздохнула она, — такой некрасивый парень стал, на удивление. Нос — во». И она, приставив к носу кулак, попыталась изобразить мне Гарика. «А внук Дарьи Ефимовны?» — «Ничего. Симпатичный», — неохотно ответила она.
Из всех эвакуированных самая заметная — Надька. Тогда высокие женщины были редки, а Надька — высокая, крепкая, с густой каштановой гривой волос. Движения у нее властные, голос уверенный, хотя ей было всего девятнадцать, когда она приехала сюда, в это далекое от Ленинграда село.
Рядом с нею как-то пропадали все другие, даже довольно красивые женщины. Жизнь в ней кипела, и когда она шла, то чем-то напоминала породистую лошадь, едва сдерживающуюся, чтобы не умчаться куда глаза глядят.
Она жила со свекровью, грудным сыном, которого родила здесь, в эвакуации, и сестрой лет двенадцати-тринадцати.
Муж у нее был майор. Болтали, что она, будучи машинисткой в части, где служил этот майор, соблазнила его, разбила его семью, а тут началась война, и свекровь, которая, опять-таки по слухам, очень любила свою первую невестку и внуков, поехала все-таки с Надькой, поскольку та была беременна и ничего не смыслила в жизни.
Надька привезла с собой патефон с большим набором пластинок и часами просиживала возле него, слушая песенки модных довоенных теноров.
Эвакуированные жили по избам местных жителей и очень скоро переняли многие обычаи здешних мест: заходить в чужой дом без стука, как к себе домой. Носить молоко в туесках из бересты. Тушить брюкву в печи до черноты и есть ее потом холодную, вместо конфет, сладкую, нежную. (Нигде такой сладкой брюквы мне больше не доводилось пробовать.)
Вопреки поговорке «Держи ноги в тепле, голову в холоде…» тамошние женщины почему-то очень любили кутать именно голову: платок, затем полушалок, а сверху еще и шаль — зимой, конечно. А ноги при этом могут быть босые.
Так я и увидела однажды глубокой осенью Надьку. В сельпо по карточкам выдавали хлеб. Надька стояла перед закрытым магазином в очереди. Уже были заморозки, земля заиндевела. Надька была в городском модном пальто с меховой опушкой, голова закутана в теплую шаль и… босиком. Она поджимала стройные, словно выточенные из красного мрамора ноги, но не уходила обуться. Ей как-то удивительно все шло. Даже то, что она стояла в таком странном виде, нисколько не делало ее смешной или нелепой. Наоборот, хотелось немедленно пойти укутать голову и разуться.
Во всяком случае, через некоторое время я стала замечать, что и другие эвакуированные женщины часто ходят босиком, хотя давно наступили холода. Тем более что такая мода помогала сохранять обувь.
…Через некоторое время в Надькин дом прилетело зловещее письмо.
Долгое время не было видно ни Надьки, ни свекрови. И вдруг разнеслось по селу, что у Надьки умер полугодовалый сын. Деревенские говорили, «от глоточной болезни». Теперь я думаю, что так они называли дифтерит. А может, и скарлатину…
Два дня на окнах дома, где жила Надька, были спущены занавески. На третий — из дома вышла свекровь, поддерживаемая двумя женщинами из эвакуированных, и каменно застывшая Надька с открытым гробиком на руках. Она несла его так, как носят на руках спящего ребенка, завернутого в одеяло.
До самого кладбища она не дала никому себя подменить. Лишь иногда подходила к невысокому забору или плетню и, привалившись к нему, отдыхала, минуту-другую.
После того как гроб опустили в зияющую яму, она первой взяла лопату и, зачерпывая совсем понемногу, осторожно, словно боясь ушибить, сделать больно, стала кидать землю туда, вниз…
Я не видела у нее ни одной слезы.
Свекровь же плакала так обильно, так горько, что никто не мог смотреть на это равнодушно. Бедная: сначала сын, теперь внук… И женщины подходили к ней, плакали вместе с ней, говорили что-то утешающее, и она в ответ мелко кивала головой, мол, слышу, благодарю…
К Надьке не подходили. Жалели, но не подходили. Не смели…
Вскоре свекровь уехала из села. Говорили, что к своей первой невестке.
И Надька взбесилась.
В тридцати километрах от нашего села в районном поселке Свеча обосновалось несколько госпиталей.
Надька бегала туда, а это пять-шесть часов ходу в один конец. Возвращалась она лишь на другой день, и неизвестно было, где она ночует.
Женщины говорили нехорошее за ее спиной. А какая-нибудь посмелее высказывала ей все прямо в глаза, стоя в очереди в сельпо за хлебом или в столовую за капустным супом.
— Опять в воскресенье в район побежишь?
— Конечно, побегу, не с вами же мне сидеть.
— Другие сидят. Подождала бы хоть, когда война кончится.
— А чего ждать? Когда совсем старухой стану? Уже двадцать один стукнуло, а что я видела? Только и успела, что родить да похоронить.
— Значит, кое-что все-таки видела? — ехидничала женщина.
— Заткнулась бы, — советовала Надька. — Сама бы побежала — пыль столбом, да боишься, что мужу напишут. А мне бояться некого.
Женщина начинала фыркать, возмущаться, а Надька хоть бы что — уже рассказывала кому-то о театре, который должен был приехать в Свечу не то из Кирова, не то из Перми. Очередь прислушивалась, интересовалась артистами, потому что это были отголоски большой жизни.
Некоторые праздники в селе отмечались пированием. Приглашали на складчину и
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)